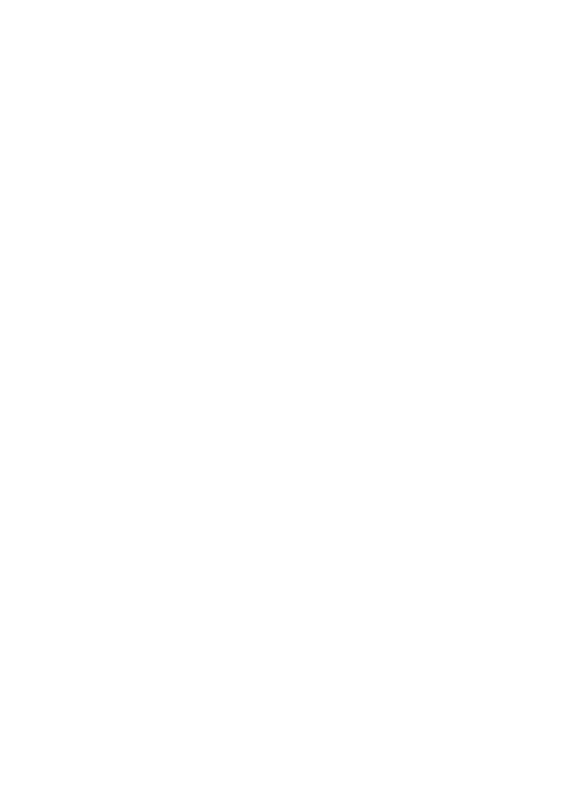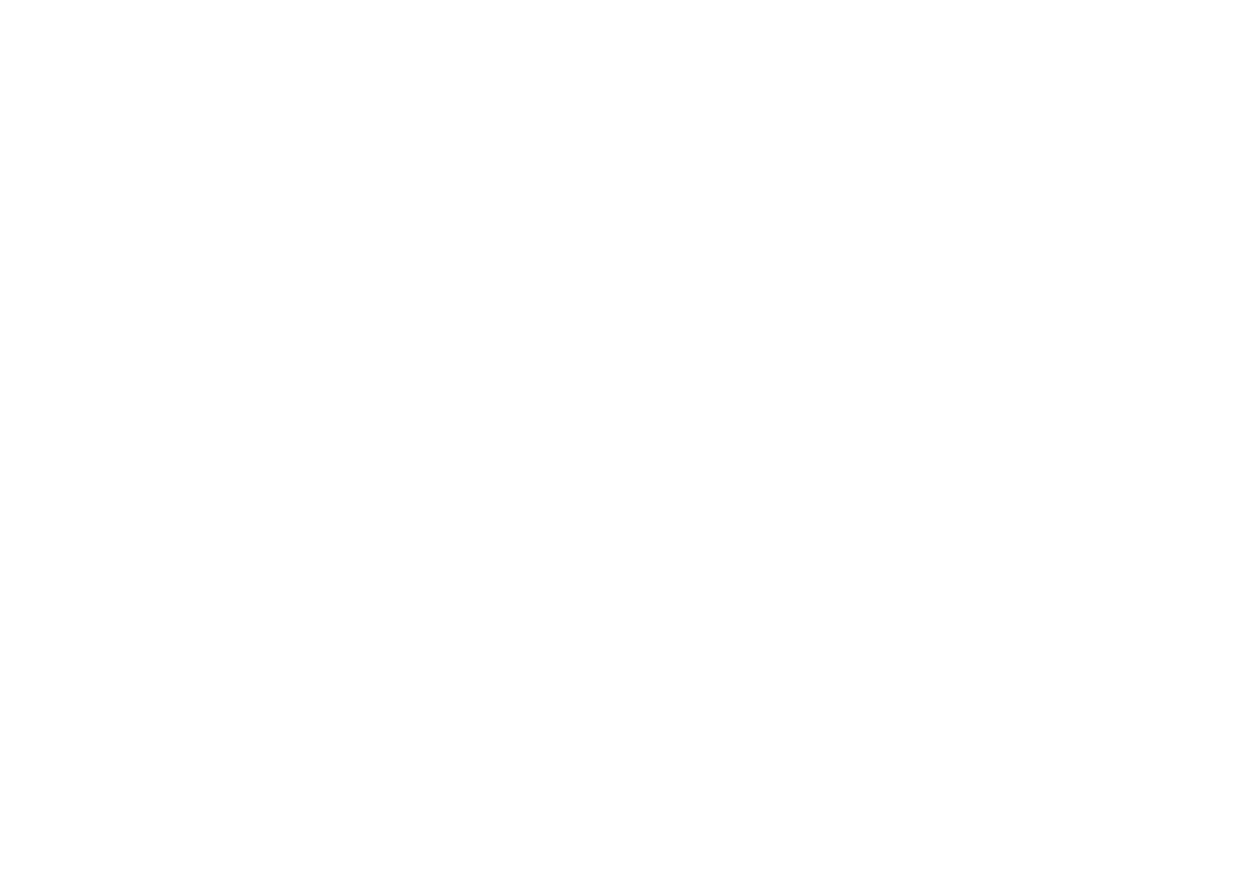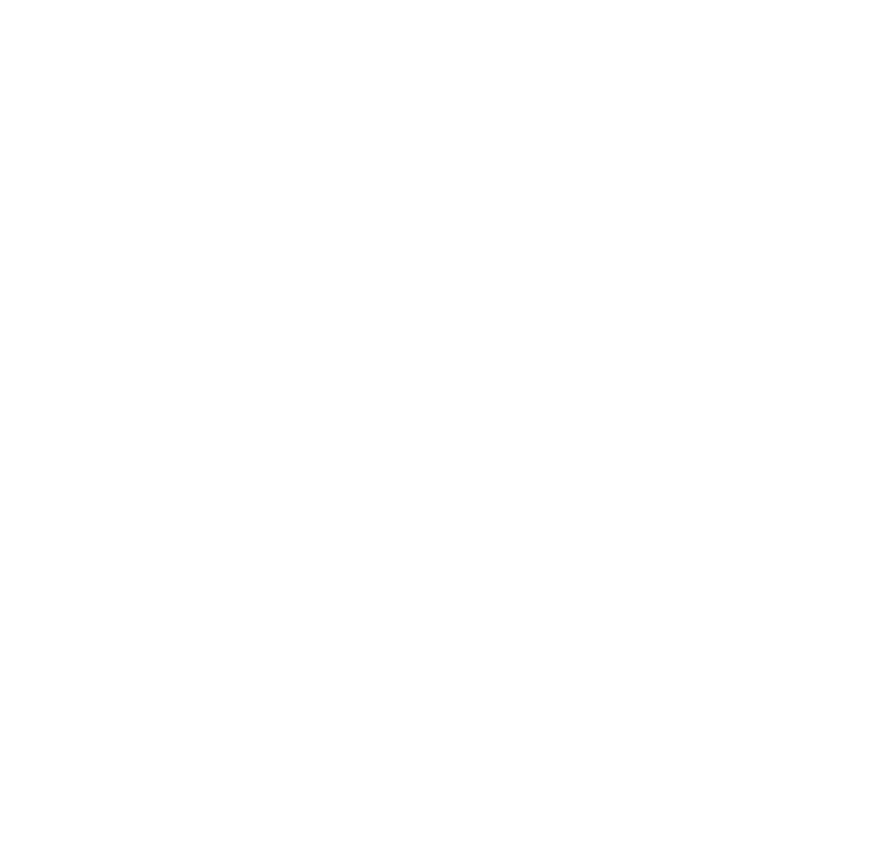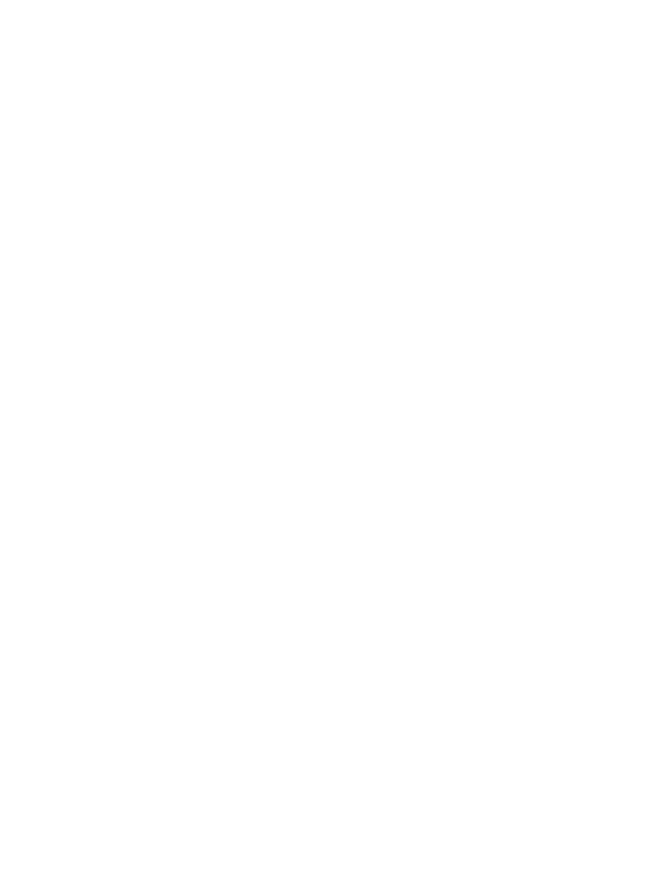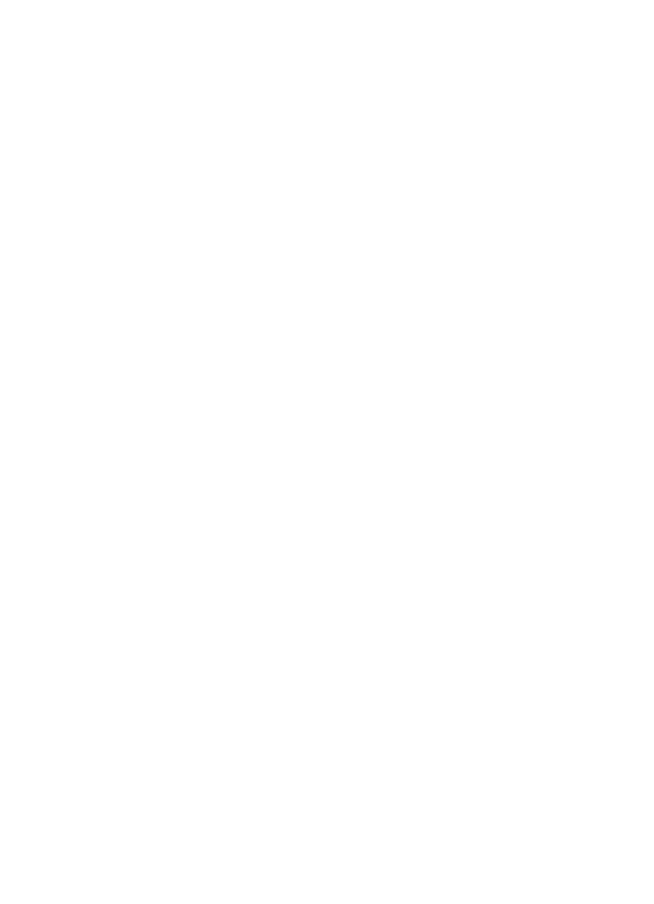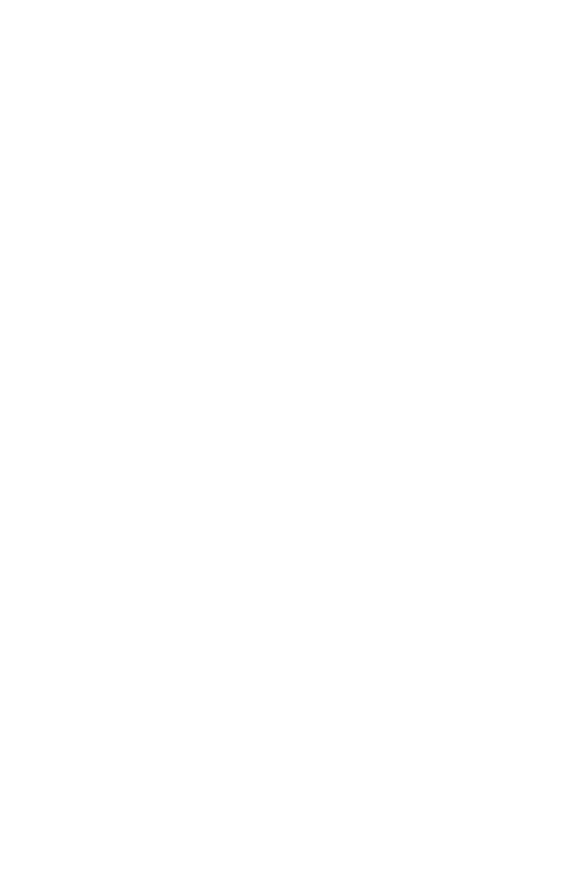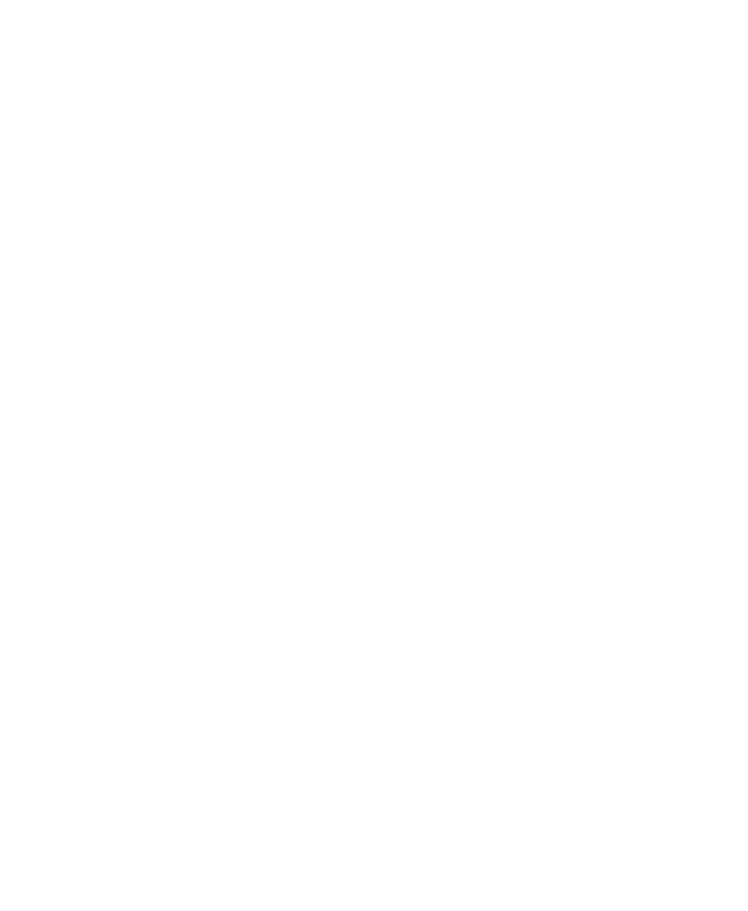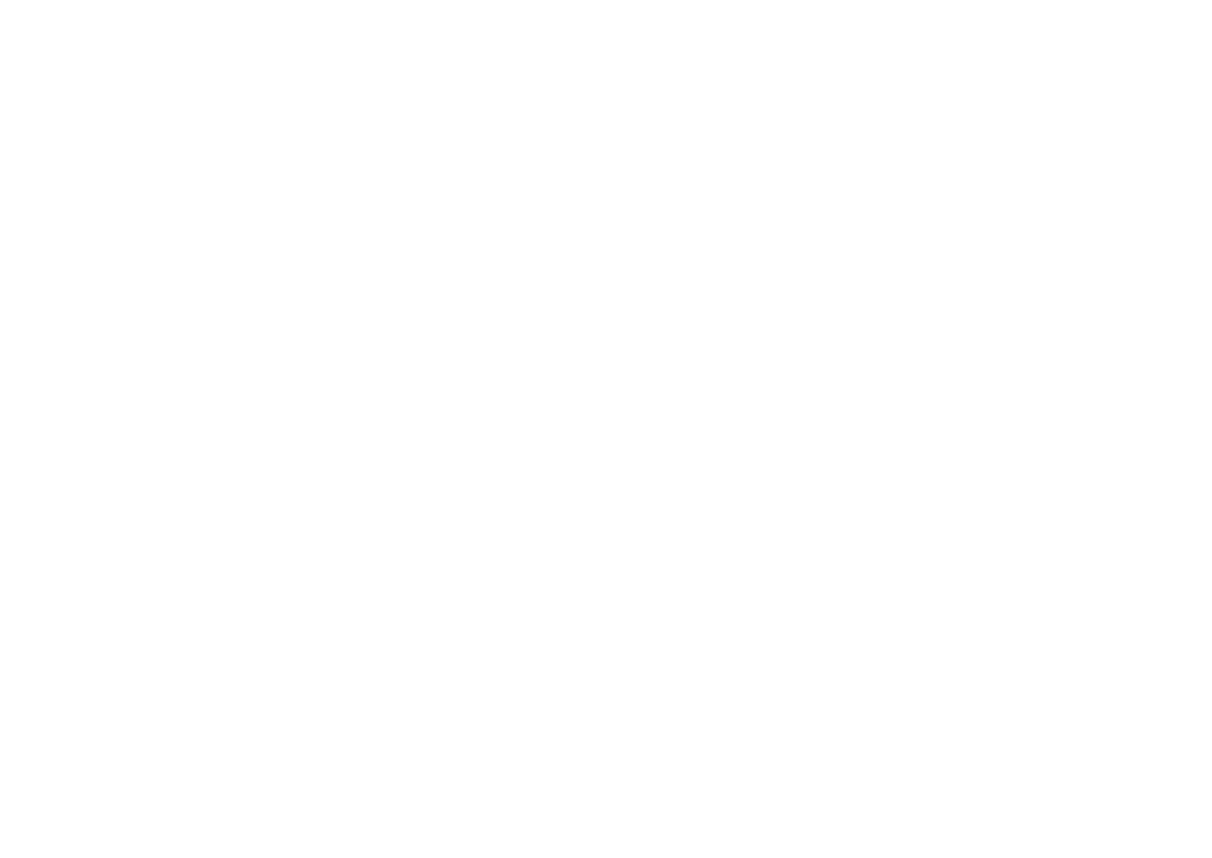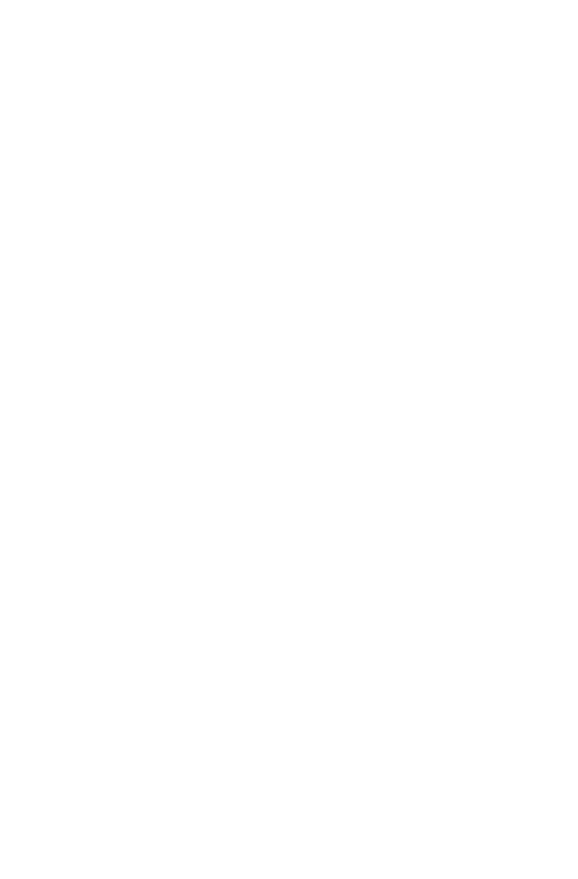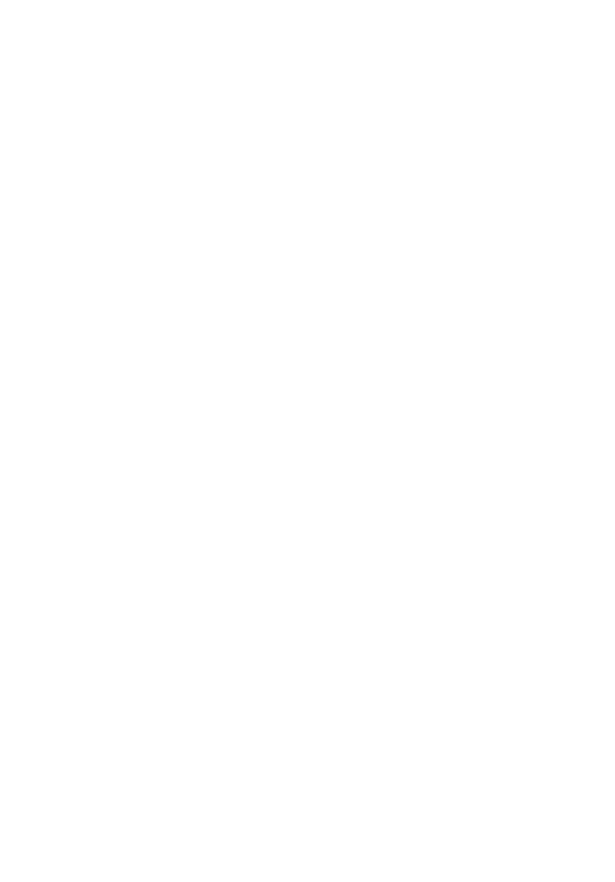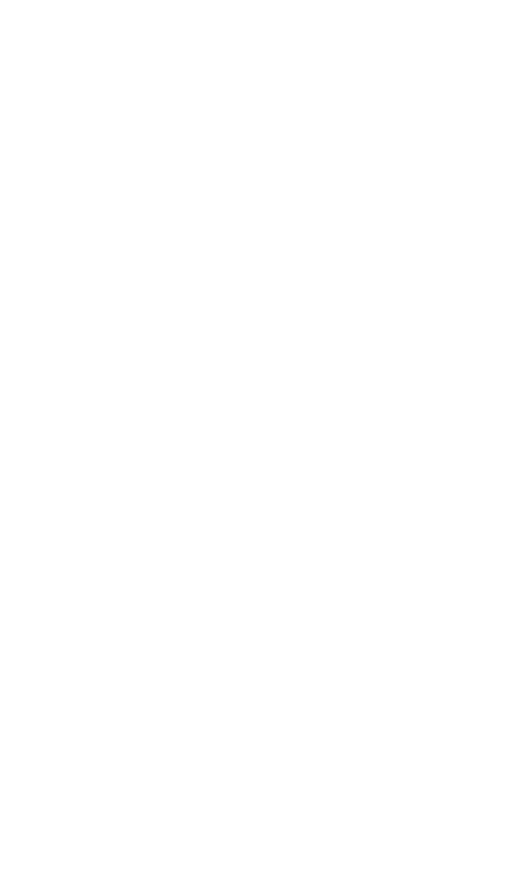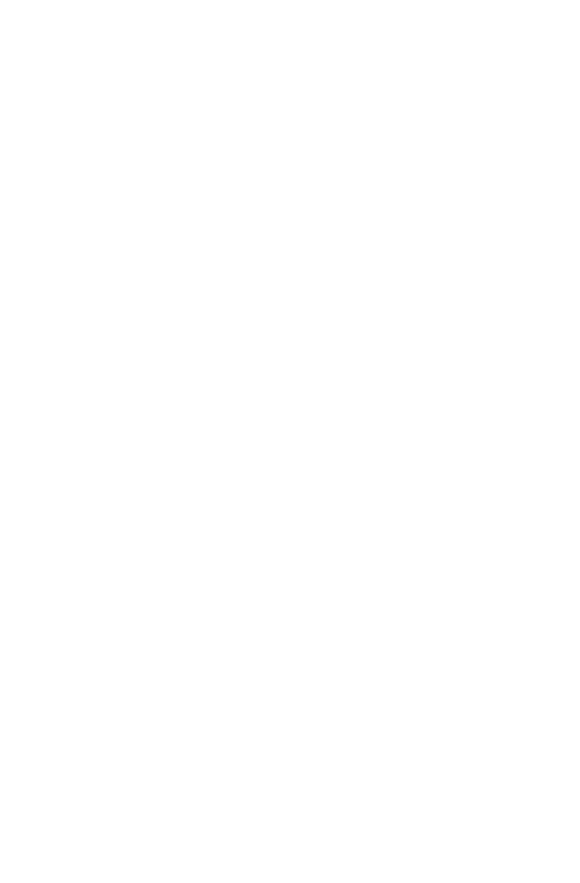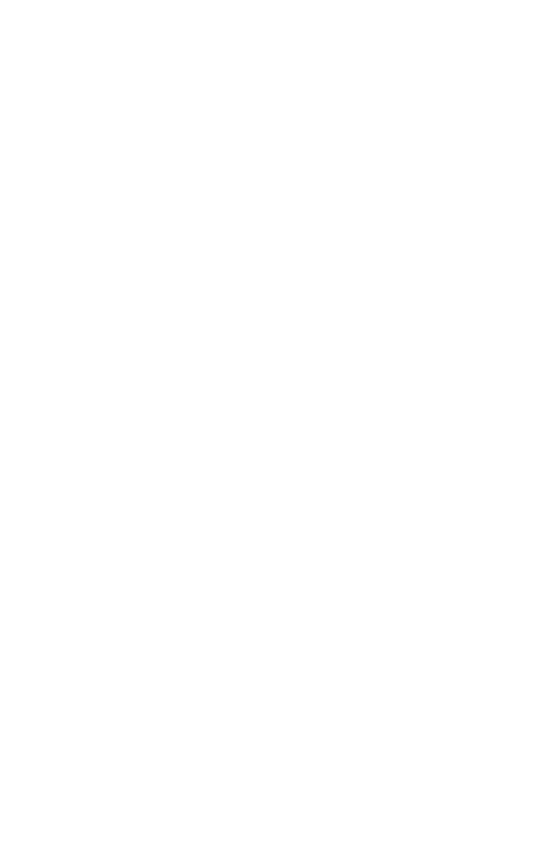Взгляд изнутри: эссе о том, как Муэтдин-Араби Джемал писал Дагестан
Кавказ в изобразительном искусстве долгое время был предметом взгляда «снаружи»: пейзажи как экзотика, типажи как иллюстрация, архитектура как орнамент. Франц Рубо, Теодор Горшельт — имена известные практически каждому, кто хоть раз прогуливался по Дагестанскому музею изобразительных искусств. Дагестанцы зачастую намного лучше знают русских художников, писавших Дагестан, чем своих соотечественников. Однако есть большая разница: для русского художника горы и аулы были прежде всего эстетическим вызовом, чем-то новым, неизведанным, практически экзотикой. Совсем иначе к ним относился тот, кто в этих аулах жил, кто сам был частью ландшафта. Муэтдин-Араби Джемал оказался первым профессиональным художником из Дагестана, кто попытался говорить от лица своей культуры — через рисунок, через форму, через память.
В детстве я часто проходила мимо художественного училища имени Джемала. Фамилия на фасаде ни о чем мне не говорила: всего лишь уличная табличка, на которую невольно бросаешь взгляд. Тогда я даже не знала, кто он — Джемал, да и не придавала этому никакого значения. В подростковом возрасте я как дагестанка стала сталкиваться с его именем чаще, во многом как с автором портретов местных писателей и поэтов в учебнике по дагестанской литературе. Но и тогда не проявляла никакого к нему интереса: у меня была фаза полного отрицания всего, что напоминало о собственном происхождении. До тех пор, пока не поступила на факультет гуманитарных наук Высшей школы экономики и не решила стать искусствоведом.
Рассматривая разных дагестанских художников в качестве объектов исследования в дипломной работе, я остановилась на Джемале. Казавшийся мне известным, уже изученным, практически «нашим всем» от мира дагестанской живописи, он был знаком только узкому кругу людей, интересующихся искусством Дагестана. И вот это ощущение несправедливости из-за тишины, которая возникает за именем на фасаде здания, подтолкнуло меня написать о нем.
Школа и экспедиции
Муэтдин-Араби Джемал родился в 1900 году в Верхнем Казанище. Его путь в искусстве начался в художественном кружке в Темир-Хан-Шуре, где он и познакомился с Евгением Лансере, что стало определяющим событием его карьеры. Позже Джемал поступил в Тифлисскую академию — именно к Лансере.
Муэтдин-Араби Джемал родился в 1900 году в Верхнем Казанище. Его путь в искусстве начался в художественном кружке в Темир-Хан-Шуре, где он и познакомился с Евгением Лансере, что стало определяющим событием его карьеры. Позже Джемал поступил в Тифлисскую академию — именно к Лансере.
Ученичество не ограничивалось техникой. В 1920-е годы Джемал всё чаще отправляется в экспедиции по Дагестану: ходит по аулам, поднимается в горы, делает быстрые карандашные этюды. Это рисунки на ходу: острые линии крыш, узкие тропинки, изломанные силуэты склонов. Они кажутся почти сухими, но за ними чувствуется, что художник пишет не чужое — он фиксирует свое. Именно в этих экспедициях Джемал активно общается с людьми, и, со слов его соратника Аскара-Сарыджи, находит свою миссию — показывать народ правдиво.
Пейзаж
Одним из первых ключевых сюжетов становится аул Тидиб. Его писал Лансере: панорамная работа, выполненная маслом, с продуманной композицией и мягкими переливами света. У Джемала — несколько иначе. Он берёт гуашь, пишет графично, с резкими линиями и более плотными пятнами цвета. В его версии нет цельной панорамы, но есть ощущение близости: будто стоишь на склоне и смотришь вверх, глазами самого художника. Работа, безусловно, ученическая: сопоставив произведения можно заметить, как Джемал время от времени оглядывается на работу своего учителя, прежде чем вернуться к своему картону.
Одним из первых ключевых сюжетов становится аул Тидиб. Его писал Лансере: панорамная работа, выполненная маслом, с продуманной композицией и мягкими переливами света. У Джемала — несколько иначе. Он берёт гуашь, пишет графично, с резкими линиями и более плотными пятнами цвета. В его версии нет цельной панорамы, но есть ощущение близости: будто стоишь на склоне и смотришь вверх, глазами самого художника. Работа, безусловно, ученическая: сопоставив произведения можно заметить, как Джемал время от времени оглядывается на работу своего учителя, прежде чем вернуться к своему картону.
Его ранние пейзажи селений Чох и Гергебиль чаще фронтальные. Архитектура аула выстраивается ступенями, линии аккуратно отмечены, рельеф прорисован с вниманием к деталям. В этих рисунках нет романтического пафоса, но есть спокойная честность. Для меня они были самыми цепляющими: Джемал хорошо передает впечатления, которые лично я испытывала во время поездок в горы. Интерес, желание запомнить, подметить каждую маленькую деталь, которая отличает архитектуру одного аула от другого. Та внимательность, которая появляется только со знанием.
В середине 1930-х он пишет «Гергебиль ночью». На картине — плотина, производственные корпуса, река, черные массивы гор. Свет падает на воду и на здание, но не ослепительно, а мягко, так что завод не вытесняет пейзаж, а становится его частью. Это индустриальная тема, которая вероятнее всего была государственным заказом. Тот же мотив встречается, например, у Николая Лакова. К этому времени перед Джемалом стоит вопрос не просто искусства как выражения собственного опыта и эмоций, а как репрезентации Советского Дагестана. Он начинает активнее сотрудничать с властью, от этого темы и техника его работ меняются: от горных пейзажей он переходит к индустриальным, от карандашных набросков и этюдов к картинам маслом.
Самая известная его пейзажная работа — «Сбор гергебильских персиков». Там нет строгой фронтальности: деревья наклоняются, ветви сливаются с движением людей. Корзины, фрукты, солнечный свет — всё образует единый поток. Для меня это полотно одно из самых трогательных: после долгих лет работы в рамках государственного заказа, он постепенно прощупывает почву и пытается вернуться к тому, с чего начинал. К изображению простого народа таким, какой он есть. К жизни. К правде. И у него определенно получилось, пусть и конец жизни — эта работа стала его последней.
Портрет
В портретах Джемал почти сразу находит свой голос. Первые работы — этюды во время экспедиций: мужчины, женщины, дети. Почти всегда поясное изображение, нейтральный фон, акцент на лице. Он словно старается поймать момент, когда человек смотрит прямо в глаза, не позируя и не жестикулируя. Работа «Зима в Анди» особенно показательна. Женщина в тяжелой зимней одежде с характерным андийским головным убором ведёт за руку девочку. Они не позируют, не смотрят в сторону зрителя. Это сцена из жизни: будничная, бытовая. Хранительница Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой рассказала мне, что маленькая девочка на картине, предположительно, ее тетя. В отражении быта обычных людей и представлении их такими, какие они есть, как мне кажется, и заключается суть творчества Джемала.
В портретах Джемал почти сразу находит свой голос. Первые работы — этюды во время экспедиций: мужчины, женщины, дети. Почти всегда поясное изображение, нейтральный фон, акцент на лице. Он словно старается поймать момент, когда человек смотрит прямо в глаза, не позируя и не жестикулируя. Работа «Зима в Анди» особенно показательна. Женщина в тяжелой зимней одежде с характерным андийским головным убором ведёт за руку девочку. Они не позируют, не смотрят в сторону зрителя. Это сцена из жизни: будничная, бытовая. Хранительница Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой рассказала мне, что маленькая девочка на картине, предположительно, ее тетя. В отражении быта обычных людей и представлении их такими, какие они есть, как мне кажется, и заключается суть творчества Джемала.
Отдельный пласт — портреты поэтов. Сулейман Стальский сидит расслабленно, курит, смотрит прямо на зрителя. Он только что вернулся с первого заседания Союза писателей (о чем говорит характерный значок на его одежде), но в нем остается какая-то непринужденность, несмотря на монументальность картины. У Гамзата Цадасы — камерность, сосредоточенность. Там нет позы «героя», а есть ощущение человека, который думает, слушает самого себя. Эту работу мне посчастливилось наблюдать воочию на юбилейной выставке Джемала: вживую она поразила меня сильнее, заставив взглянуть на известного поэта иначе. Как на обычного человека.
Джемал не был художником громких жестов. Его картины не кричат, не манифестируют. Почти каждая работа построена на его собственном опыте. Он не изображал «экзотику», не превращал аулы в орнамент, а писал их как часть себя. Для меня его живопись стала способом по-новому взглянуть на Дагестан — вспомнить все то, что я люблю в своей малой родине, те мелочи, которые не совсем понятны и не очень заметны человеку «со стороны». В его работах нет пафоса, героизма, свойственного Рубо или Горшельту, нет чрезмерной экзотичности, но есть уважение и точность. И когда я думаю о Джемале сейчас, мне кажется, что он помогает не только понять искусство Дагестана, но и услышать свою собственную историю — ту, от которой я когда-то отворачивалась.